Загрузил
whitevoronabela
У.Р. Бион: Концепция человека – Предисловие редактора
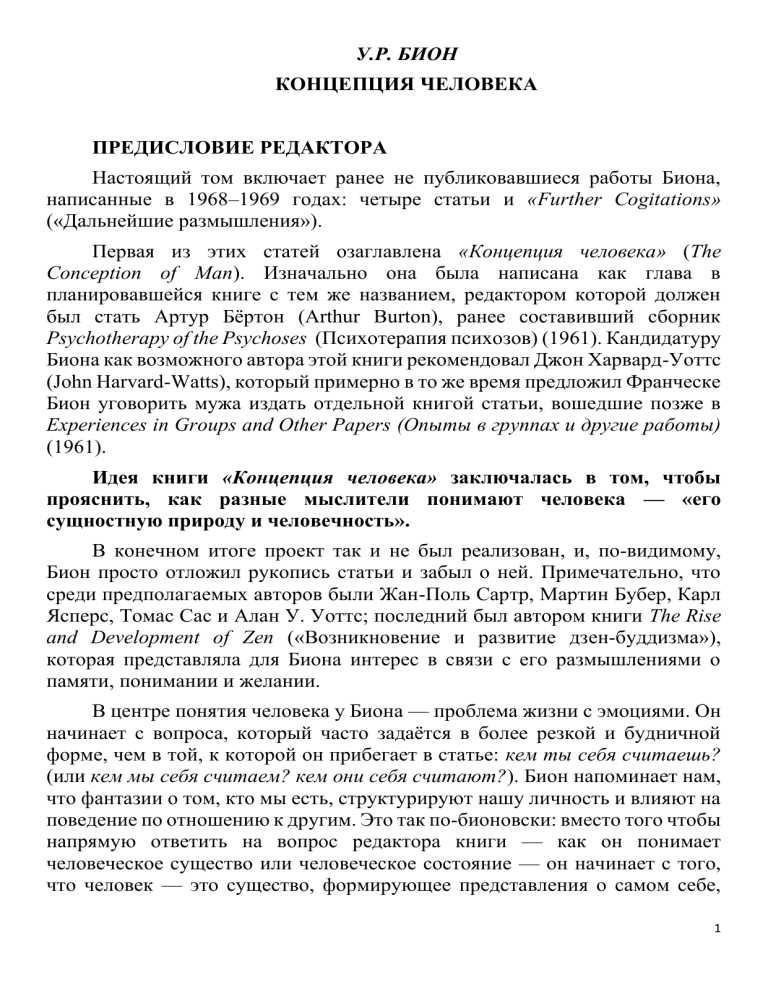
У.Р. БИОН КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА Настоящий том включает ранее не публиковавшиеся работы Биона, написанные в 1968–1969 годах: четыре статьи и «Further Cogitations» («Дальнейшие размышления»). Первая из этих статей озаглавлена «Концепция человека» (The Conception of Man). Изначально она была написана как глава в планировавшейся книге с тем же названием, редактором которой должен был стать Артур Бёртон (Arthur Burton), ранее составивший сборник Psychotherapy of the Psychoses (Психотерапия психозов) (1961). Кандидатуру Биона как возможного автора этой книги рекомендовал Джон Харвард-Уоттс (John Harvard-Watts), который примерно в то же время предложил Франческе Бион уговорить мужа издать отдельной книгой статьи, вошедшие позже в Experiences in Groups and Other Papers (Опыты в группах и другие работы) (1961). Идея книги «Концепция человека» заключалась в том, чтобы прояснить, как разные мыслители понимают человека — «его сущностную природу и человечность». В конечном итоге проект так и не был реализован, и, по-видимому, Бион просто отложил рукопись статьи и забыл о ней. Примечательно, что среди предполагаемых авторов были Жан-Поль Сартр, Мартин Бубер, Карл Ясперс, Томас Сас и Алан У. Уоттс; последний был автором книги The Rise and Development of Zen («Возникновение и развитие дзен-буддизма»), которая представляла для Биона интерес в связи с его размышлениями о памяти, понимании и желании. В центре понятия человека у Биона — проблема жизни с эмоциями. Он начинает с вопроса, который часто задаётся в более резкой и будничной форме, чем в той, к которой он прибегает в статье: кем ты себя считаешь? (или кем мы себя считаем? кем они себя считают?). Бион напоминает нам, что фантазии о том, кто мы есть, структурируют нашу личность и влияют на поведение по отношению к другим. Это так по-бионовски: вместо того чтобы напрямую ответить на вопрос редактора книги — как он понимает человеческое существо или человеческое состояние — он начинает с того, что человек — это существо, формирующее представления о самом себе, 1 причём эти представления направляют характер наших отношений с другими. Этот акцент вновь возникает в его последней статье 1979 года «Making the Best of a Bad Job» («Хорошо делая плохую работу»), где речь идёт о необходимости задуматься о природе общения самости с самостью — особенно в контексте идеализации самости. Бион исходит из начального вопроса — кем мы себя считаем? — и переходит к концепции человека как эмоционального существа, стоящего перед «выбором»: избегать чувств или сталкиваться с их реальностью и, возможно, модифицировать в самом источнике вызываемую ими боль. Это различие опирается на работу Фрейда «Положения о двух принципах психического функционирования» (1911b). Понятия, лежащие в основе Научения через опыт переживания (Learning from Experience), чётко изложены в статье «Концепция человека», после описания того, как, согласно Фрейду, фантазия о возможности избавить психику от нежелательных содержаний реализуется посредством ментального процесса проекции — основанного на физической реальности мышечного действия. Статья примечательна кратким описанием того, как Бион использует и развивает теорию проективной идентификации Мелани Кляйн для построения своей модели контейнер–контейнируемое (♀♂). Он пишет, что это расширение исходных идей «объясняет больше, чем намеревался сам их автор». Иначе говоря, проективная идентификация вместе с моделью «контейнер–контейнируемое» (а в более поздних формулировках — с идеей осцилляции между двумя психическими позициями Кляйн, которые Бион обозначил как Ps ⇌ D) предлагает описание роли нормального расщепления и нормальной проективной идентификации в мать — первый контейнер — как средства уменьшения ужаса, а также как начала коммуникации и психического функционирования. Некоторая страстность Биона в отношении своей темы чувствуется в этой статье по мере того, как она набирает темп. Он передаёт свою убеждённость в том, что идеи, которые он излагает, имеют не только академическое значение, но представляют собой нечто насущное и практически значимое для всего человечества. 2 КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (1961) Концепция человека вряд ли воспринимается как нечто практическое. Она может показаться интересной лишь философам и другим людям, ведущим академический образ жизни. Но вопрос «Ты кем себя считаешь?» — это спонтанное признание того, что представление человека о самом себе может иметь большое значение в формировании его поведения. Этот вопрос — «Ты кем себя считаешь?» — часто связан с враждебностью, вызванной, по мнению вопрошающего, агрессией в свой адрес. До войн 1914 и 1939 годов агрессия, которой один человек мог подвергнуться со стороны другого, казалась несравненно более значимой, чем ущерб, который одно государство могло нанести другому. Один человек мог убить другого, но группа вряд ли убивала или даже всерьёз вредила другой группе. Атомная бомба изменила это, а вместе с этим — и любые надежды на то, что чем больше группа, тем менее вероятно, что она причинит вред или пострадает. Поэтому теперь имеет значение, чтобы одна группа спросила другую — и саму себя: кем они себя считают? От ответа может зависеть многое. Сначала я сузил наше исследование, будто бы оно необходимо лишь в каком-то конкретном эпизоде жизни отдельного человека. Но теперь уже неблагоразумно оставлять в стороне более широкое применение — как будто оно не имеет значения в делах наций. Я буду рассматривать этот вопрос как концепт, значимый в контексте места человека среди живых существ в их историческом развитии. Кем или чем человеческий род считает себя? Этот вопрос и возможные на него ответы приобрели неотложность с тех пор, как возросла наша способность к разрушению. Наша способность задаваться этим вопросом и вести исследование также увеличилась благодаря труду Фрейда. Фрейд изобрёл психоанализ, наблюдая класс больных, которые, казалось, страдали, но не проявляли признаков физического или психического расстройства в обычном понимании. Исследование началось с его интереса к невротическим расстройствам, но я хочу сосредоточить внимание не столько на его изучении больной психики, сколько на его исследовании психики тех людей, которых вовсе не считают больными. Ибо именно в этом он приближается к вопросу «Что есть человек?» и отдаляется от сравнительно ограниченного вопроса: «Почему болен именно этот человек?» 3 Фрейд считал, что значительная часть сопротивления его работе была вызвана его открытиями в области сексуальности и его смелостью сделать эти факты достоянием общественности. Враждебность по отношению к его теориям сексуальности, как правило, заслоняет собой враждебность по отношению к самому исследованию. Фрейд не обратил внимания на роль Сфинкса в мифе об Эдипе. Но можно задаться вопросом: зачем вообще беспокоиться о каком-то мифе? Какое значение может иметь сказка, рассказанная в древности, приукрашенная различными авторами с тех пор и вряд ли имеющая какое-либо фактическое соответствие? Даже как миф, он, похоже, не заслуживает большего внимания, чем другие мифы: названия созвездий не включают Эдипа. Распространённая точка зрения (что Фрейд наблюдал определённые формы человеческих страданий, изобрёл психоанализ как метод исследования и с его помощью открыл Эдипов комплекс и другие подобные феномены) не столь проницательна, как взгляд на то, что его гениальность заключалась в осознании значения мифа об Эдипе как инструмента, с помощью которого он, возможно, даже не осознавая этого, открыл не Эдипов комплекс, а сам психоанализ — и человека. Основные элементы мифа об Эдипе таковы: 1. Сфинкс, чудовище, составленное из разных животных, части которых были собраны заново, чтобы создать существо, загадывающее загадку. 2. Загадка, ответом на которую, согласно более поздней традиции, должен был быть «человек». Ошибочный ответ карался смертью; правильный приводил к смерти Сфинкса. 3. чумы. Фивы, город, жители которого умирали от таинственной 4. Тиресий, прорицатель, противник неустанного любопытства и защитник принципа, согласно которому столь безжалостное стремление к знанию является преступлением — Хюбрис, навлекающим на себя гнев Немезиды, обычно отождествляемой с возмездием или праведным негодованием. 5. Эдип, отождествляемый с детоубийством — как жертва, и с отцеубийством — как преступник, безжалостный исследователь преступления, которое он сам же и совершил, пусть и неосознанно. Он получает мучительное наказание – слепоту. 4 6. Лай, царь и убитый отец, который сам является соучастником детоубийства; верующий в пророчества оракула. Я подчёркиваю элементы этого рассказа, рассматривая его сюжетную линию как второстепенную. Из этих элементов наименьшее внимание в психоаналитической литературе привлекли Сфинкс, загадывающий загадку, и её участь. Я уже упоминал1 о навязчивом появлении любопытства и его маскировке в группе; разъяснение переноса в психоанализе включает исследование любопытства аналитика, однако глубина, с которой это проводится, заслоняет макроскопический взгляд, доступный в группе. Таким образом, групповая процедура не противоречит процедуре и теориям психоанализа, но предполагает изменение акцентов. Это изменение имеет значение для исследования концепции человека, поскольку сама концепция является продуктом игры любопытства вокруг фактов, которые выступают на передний план, как только индивид осознаёт себя или свою группу, или как только группа осознаёт себя или другую группу как группу. Обычно человек осознаёт свойства объектов и органы чувств, ответственные за ощущения, которые мы связываем с физическими объектами. Но осознание личности зависит лишь частично от органов чувств. Мы можем видеть, что человек совершает определённые мышечные движения, что его взгляд направлен в определённую точку, и что в некоторых условиях сумма этих ощущений может интерпретироваться как выражение, скажем, любви или ненависти. Фрейд выдвинул положение, что сознание является органом чувств для психических качеств (1900а, с. 574), и таким образом показал, что необходима концепция «органа чувств», который приносил бы нам информацию не только о физических феноменах, но и об аспектах личности — тревоге, страхе, ненависти, депрессии, любви и так далее. Само наличие этих слов свидетельствует о том, что мы считаем, будто знаем об их существовании в нас самих и в других — и, следовательно, по-видимому, обладаем каким-то «оборудованием», которое позволяет нам видеть не только движение мимических или других мышц, но и распознавать эмоции, из которых эти движения являются вторичными проявлениями. Два обстоятельства привели к нашей неудовлетворённости тем, что мы знаем об эмоциональной жизни. Философы науки всегда активизируются в 1 См. «Опыты в группах и другие работы» 5 деле точного прояснения проблем научения тогда, когда индивид или группа, потерпев неудачу в каком-либо проекте, вынуждены усомниться в природе своего знания или в методах, которые они применяли для его получения. История озабоченности методами познания столь же стара, как и Платон с его притчей о Пещере, люди в которой изучают тени, проецируемые на стену позади них светом, идущим из-за их спин. Пессимистический вывод, сформулированный Притчардом (1950), состоит в том, что подобное исследование может в итоге привести нас к вопросу: «Как мы вообще можем что-либо знать?» Однако на деле очевидно, что мы действительно учимся, даже в младенчестве, и этот пессимизм применим не столько к нашей способности учиться, сколько к нашей способности понять, как мы учимся. Это последнее исследование связано со вторым из двух упомянутых мною обстоятельств — а именно, с психоанализом. Вопрос, которым занимается психоанализ, не является новым, но его методы и успех, достигнутый основателем этого движения, резко обострили проблемы, связанные с такими феноменами, как любовь, ненависть, тревога, сексуальность, депрессия — и со способами, при помощи которых мы осознаём их существование в себе и в других, а также с тем, как мы можем научиться на опыте столкновения с этими эмоциональными силами. Индивиду приходится жить со своими чувствами. Следовательно, он должен добиться точного осознания того, что он чувствует, — только тогда он способен научиться на этом опыте, что значит жить с чувствами других людей. Вопрос о том, как жить со своими и чужими чувствами, впервые встаёт в младенчестве: младенец осознаёт чувства — свои или материнские — и должен что-то с ними делать. В своей теории удовольствия и боли Фрейд выдвинул положение, согласно которому рост доминирования принципа реальности предполагает изменение отношения к окружению. Нас в данном случае интересует та часть окружения, которой является личность и чувства, выдающие её существование, — и именно это индивид начинает осознавать уже на ранней стадии. Реакция на болезненные чувства, типичная для фазы доминирования принципа удовольствия, прекрасно иллюстрируется в «Алисе в Стране Чудес», в сцене, где палачу приказывают немедленно отрубить голову Чеширскому коту — или всему коту, если он ещё где-то есть. Если чувства причиняют боль — тем хуже для чувств: их нужно уничтожить. 6 Доминирование принципа реальности предполагает развитие таких реакций, которые нацелены на модификацию окружения, вызывающего эти чувства. Если допустить, что избегание и модификация — это взаимоисключающие реакции, и что обращение к одной из них зависит от того, в какой степени психика способна терпеть фрустрацию, то неспособность выносить фрустрацию подрывает развитие способности к контакту с реальностью, поскольку фрустрация — это неотъемлемая часть любой реальной ситуации. Если личность не способна выносить реальность эмоциональных переживаний, она теряет способность учиться на эмоциональном опыте как таковом. Такое состояние ума характеризуется доминированием избегания фрустрации, и я буду использовать термин «избегание» как абстракцию, обозначающую целый ряд различных ситуаций, схожих лишь в том, что в каждой из них содержится разрушительная реакция на любой аппарат, способный привести к осознанию болезненных — а значит, всех — эмоций. Этому противопоставляется «модификация»: я буду использовать этот термин как абстракцию для обозначения таких ситуаций, которые способствуют развитию способности к обострённому восприятию эмоциональных переживаний и параллельному развитию способности использовать эти эмоциональные переживания, сделав их доступными личности. Фрейд описал мышечную активность, характерную для фазы господства принципа удовольствия, как направленную на избавление психики от накопившихся раздражителей. Господство принципа реальности предполагает реалистические попытки изменить окружение. Я буду использовать символ E (evasion) для обозначения состояния психики, регулируемой принципом избегания, и символ M (modification) — для обозначения состояния психики, регулируемой принципом модификации. Мышечное действие, сама мысль и, в сущности, любая форма активности могут выражать как E, так и M: не существует такого действия, которое было бы в своей сути связано исключительно с выражением одного из этих состояний. Это относится даже к попыткам избавиться от накопившихся в психике раздражителей — ведь в определённых обстоятельствах такую активность корректнее будет отнести к категории M, нежели к E. (С этой трудностью постоянно сталкивается исследователь психологических проблем; я надеюсь справиться с ней, используя один и тот же символ для выражения одной и той же ценности в рамках одного и того же рассуждения.) 7 Когда будет необходимо описать ситуацию, в которой единственно реалистичным выходом для индивида или группы является избавление от накопленных раздражителей путём разрушительной атаки на чувства, а не через модификацию источников этих чувств, я прямо укажу, что доминирующий принцип сменился с E на M, хотя сама активность может быть неотличима от той, что обычно характерна для E. При изучении концепции человека мы должны исследовать мышление — его истоки, различные трансформации, а также его связь с осознанием психических качеств индивида и группы. Поэтому мне необходимо ввести ещё одну теорию, выдвинутую Мелани Кляйн и названную ею «проективная идентификация». Я воспользуюсь лишь одним аспектом этой сложной и широко применимой теории. В нём говорится, что младенец, ощущая себя переполненным эмоциями, прибегает к ментальной активности, которую Кляйн описывает как расщепление чувств и помещение их в мать. Мать, таким образом, становится контейнером для чувств, которые младенец считает невыносимыми для себя. Проведя некоторое время в матери, эти чувства претерпевают модификацию, после чего младенец вновь воспринимает их как часть своей личности — уже способной их выдерживать благодаря модификации, произошедшему в матери. Поскольку я намерен использовать эту теорию в различных контекстах, я буду обозначать контейнер и контейнируемое двумя абстрактными символами: ♀ и ♂. Теория проективной идентификации и её производные объясняют больше, чем изначально предполагал её автор: они удовлетворяют критерию, согласно которому теория должна демонстрировать способность к последовательному и непротиворечивому развитию при использовании в научном исследовании. Я буду использовать теорию проективной идентификации как модель раннего развития процессов, которые позднее получили название мышления. Эта модель предполагает существование пары; я использую её для обозначения внутреннего аппарата личности. То, что изначально представляло собой отношение между матерью и младенцем — или между грудью и ртом — теперь представляет собой интроецированные объекты. Репрезентация этих внутренних объектов используется как модель психических механизмов, лежащих в основе мышления. Символы ♀ и ♂ могут быть использованы для обозначения этого внутреннего аппарата в виде ♀♂. Я уже говорил, что мышление может находиться под господством E или M. Необходимо подробнее рассмотреть модель пары ♀♂, чтобы понять, какие вопросы связаны с тем, как используется мышление. Предположим, 8 что существует некий фактор, препятствующий гладкому развитию взаимодействия между младенцем и матерью. Зависть — один из таких факторов, и я воспользуюсь ею для иллюстрации примера. Младенец может чувствовать себя неспособным использовать механизм модификации чувств, который я описал, если преобладающими эмоциями в связи «младенец-мать» являются зависть и жадность. Если младенец одержим страхами, что он умирает, и пытается расщепить эти страхи и проецировать их в мать, чтобы она смягчила их невыносимое качество, то вместо того, чтобы процесс развивался по описанному сценарию, ♀ воспринимается как фигура, которая с жадностью и завистью отнимает всё хорошее, что заключено в проецируемых страхах. Под этим «хорошим» имеется в виду всё, что может быть осмыслено в страхе смерти. В результате, когда младенец вновь интроецирует эти страхи, он получает обратно не смягчённые, приемлемые для психики страхи, а некий безымянный ужас. Возвращаясь теперь к установке ♀♂ в психике младенца: вместо того чтобы иметь доброкачественный объект ♀♂, младенец, по-видимому, ощущает себя под властью объекта, обладающего чертами морали, которая не терпит знания, духа исследования или любопытства — то есть всему, что необходимо для приобретения знания. Кроме того, ♀ и ♂ находятся в таких отношениях, при которых один элемент истощает другой. Насколько эту ситуацию можно выразить словами, доброкачественная единица ♀♂ заменяется злокачественной парой, оказывающей на личность следующее влияние: (а) мораль, лишённая уважения к истине, личности и вообще к живому; (б) «научный» (т.е. устремлённый к истине) объект, озабоченный исключительно использованием фактов как элементов, пригодных для разрушения совести и морали. Такой объект я буду обозначать как –♀–♂. Он призван истощить личность, лишив её какой бы то ни было истины и доброты. На самом деле, использование термина «истощение» — применительно к модели, основанной на пищеварительной системе — особенно удачно описывает процесс деградации, который демонстрирует такая личность. Хотя можно сомневаться в пригодности этой модели для описания процессов мышления, её проясняющая сила делает невозможным отказаться от неё на данном этапе исследования. Объект –♀–♂ также подвергается дегенеративным изменениям. Он не только лишён материи, стимулирующей развитие, но, повидимому, активно разрушается собственными продуктами — как если бы они обладали токсичностью для психической жизни, сопоставимой с токсинами в теле. 9 До сих пор я сосредотачивался на природе аппарата, от которого мы зависим в обучении через опыт. Я уделял внимание описанию фундаментального качества этого аппарата — таким, каким оно представляется, если подойти к исследованию с позиции того, как развиваются как обучение, так и разрушение обучения. Я предположил, что обучение через опыт переживания невозможно без опыта переживания того, кем мы являемся как индивидуумы и как группы. Мы должны переживать самих себя и свои эмоции, если хотим переживать что-либо ещё — и должны учиться на этом опыте переживания. Это предполагает принятие идеи о том, что научная точка зрения необходима как для психического здоровья личности, так и для успешного стремления к новым знаниям. Она несовместима с противоположной точкой зрения, воплощённой и олицетворённой мрачными предчувствиями Тиресия. Успехи научного метода в современной физике склонны затушёвывать враждебность по отношению к методам и действиям любознательности — особенно со стороны самих учёных, которые воспринимают научный метод как нечто само собой разумеющееся. Мрачные предсказания Тиресия могут показаться относящимися только к исследованию эдиповой ситуации, но для Тиресия преступление заключается не в инцесте и отцеубийстве, а в беспощадной настойчивости в расследовании — в hybris, в самом Эдипе. Подобные предчувствия можно найти в предупреждении Адаму не есть с Древа познания, в наказании строителей Вавилонской башни путаницей языков, в запрете на перепись населения. Тревога, столь ясно выраженная в расовых мифах, может быть биологически оправданной, возможно даже дополняющей страх психического голода у индивида. Возможно ли, что можно было бы разработать методы, с помощью которых индивид или человечество могли бы добывать больше знаний, которые они в то же время были бы в состоянии вынести? В физическом мире существуют условия, неблагоприятные для выживания человека; подобным же образом существуют эмоциональные ситуации, которые индивид не может вынести — и они ведут к психическому разрушению. Если существует опасность психического голода, то существует и опасность психического перенасыщения. Пьер Тейяр де Шарден (1955) постулировал ноосферу — по аналогии с атмосферой. Я заимствую этот термин для удобства обсуждения, но не буду использовать его в том же смысле, что и он. Я буду ограничивать его значением той эмоциональной среды, которая необходима для выживания психической жизни индивида от рождения до смерти. Пример такой ноосферы — это 10 состояние, в котором эмоциональная потребность младенца в наличии груди, в которую он может проецировать часть себя, оказывается удовлетворённой. Утверждение, что младенец испытывает потребность проецировать часть своей личности в грудь, — это описание модели, которой Мелани Кляйн пользуется для представления своей абстракции, выведенной из поведения другого взрослого человека — как вербального, так и невербального. Используя эту модель, я намерен передать свою мысль о том, что те элементы поведения взрослого, на которые я хочу обратить внимание, можно распознать по тому признаку, что они были бы уместны, если бы были частью истории, в которую верит младенец — а именно, что он расщепляет часть своей личности и т. д. Короче говоря, это повествование, используемое для того, чтобы определить психоаналитический объект. Я использую термин «психоаналитический объект» в том же смысле и с той же целью, с какой Аристотель использовал термин «математический объект». Однако я также хочу выразить свою уверенность в том, что пациент, когда он был младенцем, действительно ощущал, что занят деятельностью, которую он, будь у него способность говорить, описал бы именно теми словами, которые я ему приписываю. Другими словами, он описал бы свой опыт, используя эту модель. Но можно было бы возразить, что пациент вовсе не использует никакой модели. В таком случае я просто даю словесное описание модели, которую сам сконструировал, и, кроме того, утверждаю, что моя модель — это такая словесная формулировка, какую пациент, если бы он был младенцем и мог говорить, использовал бы для описания того, что, как он верит, он в действительности делает. Это отступление указывает на некоторые неразрешённые методологические проблемы, которые мне придётся игнорировать, если я хочу обнародовать — до появления адекватного инструментария — своё видение вопросов, поднимаемых концепцией человека. Чтобы верить в успех своей попытки, я должен допустить существование некой ноосферы, в которую я могу проецировать свои взгляды и на которую могу положиться в том, что она придаст моим словам смысл — для вас, кто эти слова читает. Я рассчитываю вызвать отклик как у отдельных людей, читающих мои слова, так и у самой ноосферы. Последняя будет включать в себя и изменение смысла, так что то, что я сейчас считаю своей коммуникацией, обретёт смысл, который мне самому неизвестен в момент написания. Примером ноосферной реакции может быть завистливый и враждебный приём, лишающий мои слова всякого смысла и возвращающий их мне не просто оголёнными, но отравленными таким 11 образом, что это разъедает мой порыв к творческой коммуникации. Такой пример можно абстрактно обозначить как ♀♂–, где ♀ — это идея, а ♂– — ноосфера, управляемая жадными и разрушительными импульсами. Если читатель обдумает всё, что я сказал о ноосфере, а затем попробует переформулировать моё сообщение таким образом, чтобы сохранить его ценность, одновременно придав ему ясность, — он легко убедится в серьёзнейших трудностях, связанных с попытками точно мыслить о мышлении. Эти проблемы куда сложнее тех, что связаны с переживанием, абстрагированием модели из переживания и выведением ещё одной абстракции — уже в форме теории, построенной с помощью этой модели. Ведь проблемы, возникающие при абстрагировании, пронизывают более чем одно измерение роста. Следует ли считать «ноосферу» абстракцией, заменяющей «грудь» — пусть даже это лишь знак того, что в действительности невозможно изменить ничего, кроме названий, которые мы даём функциям, связанным с человеческим бессилием изобрести адекватное снаряжение для мышления? Успехи естественных наук, по-видимому, поддерживают обнадёживающие оценки нашей способности разрабатывать точные методы мышления об осязаемом, неодушевлённом. Предположим, что методы для саморефлексивного мышления рано или поздно всё-таки будут созданы — тогда возникает ещё одна угроза, сходная с той, которую, по предположению некоторых зоологов, испытали на себе предшественники человека. Одним из поразительных фактов в истории эволюции живого стало вымирание доминирующих видов. Полагают, что у стегозавра в процессе эволюции развилась столь совершенная броня, что в конце концов он не выдержал тяжести этой брони и погиб. Если отличительной чертой победы человека стало его умение изготавливать орудия, тогда можно допустить, что инструмент, который он вынужден выковать для саморефлексивного мышления, может содержать не только надежду на его выживание, но и зерно его падения. Он может утонуть под тяжестью собственной способности мыслить — части более широкой способности изготавливать и использовать инструменты. Предположим, что рост мыслительной мощности не просто разрушает смыслы, которые до сих пор ассоциировались с жизнью, но лишает мышление всякого смысла — такого, каким мы его понимаем. Тогда такое развитие, порождённое теми силами и в том порядке, о которых я говорил ранее, подпадает под категорию катастрофы. Но мобилизация и усложнение примитивных механизмов типа ♀♂ может привести к потере смысла, сравнимой с нормальной потерей страха у младенца. Это может вызвать 12 изменение в реализации, обозначаемой термином «ноосфера», которое окажется не более разрушительным для группового менталитета, чем было бы для матери утратить страх, что её младенец умирает. Ощущение, что явления обладают смыслом, связано с фундаментальным нарциссическим, эгоцентричным суждением о том, что явление указывает на развитие, способствующее либо гибели, либо выживанию индивида. Если человек не может сделать вывод (абстрагировать), что событие относится к одной из этих категорий, то для него это явление не имеет никакого смысла. Из этого следует, что эмпирическим критерием мышления служит его функция. Если функция состоит в том, чтобы абстрагировать из явлений те элементы, которые необходимы индивиду для выживания, то такая активность и есть мышление. Мышление — это деятельность, с помощью которой человек абстрагирует смысл явлений. Если же эта абстракция не позволяет определить действия, уместные в свете угрозы смерти или шанса на выживание, то такая абстракция (независимо от того, что она собой представляет) не выражает смысла явления. И наоборот, неспособность извлечь смысл в этом значении усиливает страх перед мышлением. Тем не менее ясно, что в определённых обстоятельствах человек может ощущать, что явление имеет смысл, не будучи в состоянии увидеть его уместность с эгоцентрической точки зрения. Такой смысл может быть воспринят как бесполезный и сразу отвергнут либо же подвергнут дальнейшему, якобы незаинтересованному исследованию. Аналитический опыт показывает, что все явления, проявляющиеся в кабинете психоаналитика, имеют значение для пациента, и что это значение ограничено тем, о чём я говорю здесь. Иными словами, человек научился (или считает, что научился) из опыта тому, что все факты имеют смысл, относящийся к действиям, которые он должен предпринять для избегания или модификации фрустрации. Любой иной «смысл» — бессмысленен. Как показал Фрейд, человек сопротивляется признанию любого смысла, который не поддерживает его нарциссизм: нежелание поставить под угрозу нарциссические представления делает трудным извлечение из явлений тех элементов, которые позволили бы ему воспринять взгляды, благоприятствующие самосохранению. Попытка избежать чувства нежеланности препятствует смягчению опасностей, связанных с этим состоянием. Таким образом, смысл не присущ явлениям сам по себе, а является тем, что человек стремится из них извлечь. 13 «Концепция человека» может рассматриваться как наименование смысла, который, как мы полагаем, присущ явлениям, собранным в совокупность под названием Человек. В начале этого рассуждения я предложил эмпирическое определение термина «концепция человека», ограниченное соотнесением смысла с агрессией и выживанием — между людьми, между группами людей и между человеком и другими видами. Существует основание для систематического исследования, в котором «концепция человека» становится наименованием смысла, отделённого от ореола ассоциаций, неотделимых от его происхождения и развития; в таком случае оно могло бы быть использовано как абстракция в системе, не ориентированной на человека. Попытки такого рода — особенно в богословии — начинаются с того, что идею высшего существа наделяют антропоморфного свойствами. Резюмируя проблему: неспособность решать задачи всегда приводила к пересмотру как самих неразрешённых проблем, так и методов, применённых в ходе неудачного исследования. До сих пор успехи научного исследования — особенно в области неодушевлённых объектов или тех характеристик живых существ, которые поддаются исследованию средствами, уместными для изучения неодушевлённого, — поддерживают достоверность того, что стало известно под названием научного метода. Но именно эти успехи обострили восприятие неудач. Изучение причин неудач привело к новому подходу как к самим проблемам, так и к применяемым методам. Анализ методов выявил два основных источника ошибок: первый — недостаточные методы обучения, основанные на ограниченных возможностях или знаниях человека на момент неудачи. Второй — недостаточность самого психического аппарата, вытекающая из дефектов человеческой личности. Это вынудило обратить внимание на наши собственные личности; человеку пришлось стать существом, сознающим себя. Из этого вытекает новая проблема, требующая исследования — мы сами; объектом нашего изучения становится концепция человека. Если сузить поле, в котором эта проблема возникает, наше внимание сосредоточится на одной очень важной характеристике человека, а именно — на его способности мыслить, и на том факте, что орудием исследования этой способности должна быть она сама. Мыслительная деятельность — это то качество, которое отличает человека и в то же время является центральной 14 проблемой, требующей научного изучения. И именно она же должна быть инструментом, с помощью которого осуществляется это исследование. Проблема встаёт перед нами потому, что, стремясь модернизировать свой научный аппарат, учёные вынуждены признать, что они сами являются его частью. Однако дополнительной причиной развития этого кризиса обучения на опыте стало исследование Фрейда, первоначально направленное на людей, которых он считал больными. Это исследование обернулось ничем иным, как исследованием самого человеческого ума. В результате слабости человеческого ума, хотя и не были новым открытием, были продемонстрированы с точностью и полнотой, ранее недостижимыми. Сделанные открытия показывают, что выводы психоанализа, хотя и были получены в процессе попытки облегчить человеческие страдания, касаются также проблемы научной погрешности и, следовательно, относятся к той области, в которой учёному приходится выявлять и исправлять недостатки собственного аппарата. Таким образом, концепция человека может рассматриваться как нечто большее, чем тема для академических споров. Я вовсе не хочу сказать, что академическая дискуссия не важна — напротив, она сегодня важнее и насущнее, чем когда-либо. Но, помимо медленного и терпеливого изучения, нам необходимо обрести способность к точному и быстрому суждению, соответствующему той ситуации, в которой может быть задан вопрос: «Кем они себя считают?» Такая ситуация — эмоциональная, и важно ясно понимать, что проблема, требующая немедленного решения, нуждается в способности ясно мыслить в тот момент, когда эта способность может быть под угрозой из-за склонности утрачивать самообладание. Я намерен посвятить оставшуюся часть этой статьи элементам этой проблемы, поскольку к ней приходится подходить в подобных обстоятельствах. Фрейд цитировал Лебона в поддержку взгляда на группу как на враждебную среду по отношению к творческому мышлению индивида. Именно на эту враждебную среду мы должны направить внимание — наряду с самой проблемой, которую предстоит решить в такой обстановке. Лорд Уэйвелл говорил, что для полководца недостаточно быть умным: чтобы быть эффективным, он должен уметь мыслить ясно даже под обстрелом и другими стрессами боя. Именно такая способность требуется сегодня от обычного гражданина. Я полагаю, что её можно наблюдать, развивать и укреплять в определённых типах малых групп, специально организованных для этой цели. 15 Первым необходимым условием для индивида, стремящегося развить в себе способность к суждению о других людях и соседних группах, является восприятие того, что Фрейд называл психической реальностью, или, как я выразился ранее, психоаналитических объектов. Существует огромная разница между тем, чтобы знать, что такая структура, как аппендикс, существует, и тем, чтобы определить, какая именно из множества структур, обнажённых ножом хирурга, является им. Точно так же нетрудно принять утверждения — и даже самому их высказывать — о таких понятиях, как перенос, Эдипов комплекс, амбивалентность и других, но совершенно другое дело — уметь распознать в реальности соответствующие этим терминам объекты. Как выглядит то, что они обозначают? Отрицание того, что у этих и других теоретических понятий есть соответствующие им реализации, показывает, насколько трудно наблюдать эти психоаналитические объекты. Я уже предлагал рассматривать аппарат, отвечающий за восприятие психоаналитических объектов, как совместную работу сознательного и бессознательного по аналогии с согласованной работой двух глаз в бинокулярном зрении. Такое согласованное функционирование, являющееся прототипом корреляции, позволяет наблюдать эти реализации — или, по крайней мере, наше их наблюдение — с трёхмерным качеством, которое делает их существование неоспоримым для наблюдателя. Пока что мне не удалось найти обучения, более эффективного, чем сам психоанализ, в плане уменьшения препятствий к живому восприятию. Но на этом трудности наблюдателя не заканчиваются даже после анализа. Он быстро обнаруживает, что его попытки наблюдать подвергаются атаке со стороны группы. Я уже обращал внимание на Сфинкса в мифе об Эдипе и на ту судьбу, которую он уготовил тем, кто не мог разгадать его загадку, а также на то, что случилось с ним самим, когда Эдип всё же ответил. Строители Вавилонской башни были наказаны аналогично — лишением способности к коммуникации, а значит, и к сотрудничеству в достижении своих устремлений. Наказание изгнанием было наложено и на пару, вкусившую плод с Древа Познания. В группе очень скоро становится ясно, что быть её членом опасно — в той мере, в какой группу доминирует научное любопытство. Это убеждение возникает слишком последовательно, чтобы его можно было списать на случайность: научное любопытство обязательно подвергается атаке. Каждый участник группы подвергается пристальному вниманию: можно ли сделать его носителем того или иного типа лидерства? 16 Члену группы, проявляющему лидерство в любопытстве, разрешается делать это — чтобы остальные были избавлены от необходимости следовать за ним. Важным элементом, поддерживающим в группе враждебность по отношению к работе любопытства, является её неприязнь к разоблачению механизма проективной идентификации. Этот механизм почти что любимый способ «мышления» в группе. Разумеется, в группе присутствует и обычная рациональная коммуникация, но временами кажется, будто она сговаривается — и старается втянуть аналитика в этот сговор — чтобы скрытно использовать именно этот механизм и вытеснить любые другие. Применение этого метода зависит от наличия мыслей, которые можно отщепить и использовать для эвакуации. У читателя может возникнуть вопрос: чем оправдано использование термина «мысль» в этом контексте? Что это за объект — мысль, поддающаяся эвакуации? Проблема изложения здесь действительно серьёзна, и возражения против подобной терминологии в рамках научного исследования вполне обоснованы — в пределах существующих научных методов. Поскольку мне не удаётся найти более строгого способа вербализации, а изменения в научной методологии, необходимые для осмысления групповых процессов, не могут быть достигнуты без долгих и терпеливых усилий, я должен положиться на снисходительность читателя и надеяться, что он уловит тот смысл, который я пытаюсь передать через эти несовершенные описания. По-видимому, существуют определённые элементы, которые находятся в процессе развития и соотносятся с тем, что обычно признаётся как мысли. Некоторые из них, по всей видимости, воспринимаются индивидом как обладающие качествами, характерными для того, что Кант называл вещь-всебе. Соответственно, создаётся ощущение, будто они содержатся внутри личности и поддаются таким операциям, как эвакуация (если они нежелательны) или, наоборот, поглощение (если они вне личности). В крайних случаях эти объекты, похоже, вообще неотличимы от «вещей-всебе»; в менее крайних случаях — таких, какие чаще всего встречаются в группах, — они, по-видимому, распознаются как идеи или идеационные объекты, но с такой степенью конкретизации, что обретают силу и вещественность, характерную для физических объектов. Когда группа или входящие в неё индивиды хотят манипулировать группой незаметно, они прибегают именно к этим высоко конкретизированным объектам, которые затем перерабатываются с помощью эвакуаторных и поглотительных процессов, характерных для механизма проективной идентификации. 17 Мы можем наблюдать два условно выделяемых класса таких элементов. Один состоит из элементов, сильных в эмоциях, но слабых в идеях; другой — из элементов, слабых в абстракции (или в качествах, связанных с абстракцией и абстрактным мышлением), но сильных в конкретизации. Метод проективной идентификации также может наблюдаться в двух различных состояниях: Мелани Кляйн описывала его как механизм, являющийся на деле продуктом всемогущей фантазии. Однако, по моему мнению, он способен к изменению так же, как и многие идеи, начинающиеся как всемогущие фантазии, но в конечном счёте способные трансформироваться в реалистическую активность. Если группа или индивидуум прибегают к всемогущей фантазии, тогда не происходит ничего, и наблюдатель может лишь заметить несколько пассивную, но в остальном хорошо себя ведущую группу или индивида. Следовательно, хотя проективная идентификация в своей самой крайней форме крайне активна, парадоксальным образом она почти не производит впечатления на наблюдателя. Но если индивид или группа становится менее всемогущими и более основанными на реальности, тогда наблюдатель начинает ощущать эмоциональную ситуацию, в которой он, по-видимому, участвует невольно и испытывает в результате неприятные эмоции. Сопротивление воздействию группы и чувство преследования ассоциируются с этой фазой; оба ощущения воспринимаются как будто бы причинно связанные (сопротивление проективной идентификации ↔ чувство преследования), но при этом отсутствует какое-либо осознание, напоминающее представление о причинной связи. Обращение к проективной идентификации, выражаемое знаком ♀ ↔ ♂, всегда облегчается принадлежностью к группе; именно в группе её активность наиболее выражена, а принятие — наибольшее. В аналитической или парной (один на один) ситуации она обычно воспринимается как неприятная сама по себе или как ведущая к неприятным последствиям. Характер этой активности и её последствия проявляются в очень разных формах в зависимости от других элементов в сети отношений. Настолько разных, что требуется значительное усилие, чтобы осознать, что, несмотря на очевидные различия, в динамическом плане эти обстоятельства тесно связаны. Ради простоты и краткости я рассмотрю только два элемента: степень всемогущества и эмоциональную среду, в которой функционирует проективная идентификация. 18 Как мы уже видели, крайняя всемогущественность может дать совершенно вводящее в заблуждение впечатление пассивного «хорошего поведения». В анализе нередко можно услышать, как родитель говорит о пациенте, находящемся в состоянии, близком к психозу: «Но, доктор, он всегда был таким хорошим младенцем (ребёнком и т. п.)». Даже учитывая слепоту родительской любви, это утверждение объясняется лишь тем, что всемогущество не требует никакой активности. Точно так же улучшение, приводящее к снижению всемогущества, имеет парадоксальный и часто неловкий эффект — оно вскрывает глубины неприятного эмоционального участия в отношениях с таким пациентом или группой, которые ранее оставались незамеченными. Эмоциональный элемент можно проиллюстрировать на примере крайней и опасной формы проявления зависти. Общеизвестно, что это — один из семи смертных грехов — может разрушить отношения как между двумя людьми, так и между индивидами и группой, которую они составляют. Тем не менее, повсеместно можно наблюдать отрицание серьёзности этого фактора. Даже ясное описание, данное Мелани Кляйн в работе «Зависть и благодарность» (1957), чаще всего встречается либо с апатией, либо с явным отрицанием, нежели с должным пониманием её значимости. Я уже говорил, что зависть ведёт к реализации, которую я обозначаю как –♀♂ или –♀–♂. В групповом наблюдении легче заметить процесс лишения ценности мысли, идеи или личности, чем сами объекты, подвергшиеся такому оголению. Например, мораль, лишённая почти всех качеств, которые мы обычно с ней ассоциируем, и научное мировоззрение, лишённое почти всех признаков уважения к истине. Ещё труднее увидеть, что эти лишённые содержания объекты порождают продукт, привлекательный для других — иначе устроенных — групп или лиц. Я могу лишь указать на природу этого феномена, поскольку он до конца не изучен и требует гораздо более пристального внимания и исследования. Создаётся впечатление, будто состояние –♀♂ в силу процесса оголения ведёт не к существованию зависимых, которым оказывается благожелательная поддержка (не к так называемому «государству всеобщего благосостояния»), а к группе-«хозяину» и паразитам, которые разъедают ее изнутри. При этом такая группа-«хозяин» оказывает мощное притяжение на другие группы, которые стремятся либо поглотить её, либо подражать ей — в зависимости от собственной природы. Последствия и суть этого явления я оставляю на усмотрение научного любопытства моих читателей. 19 В статье «Влечения и их судьбы» [1915c] Фрейд ярко описывает конфликт, который может возникнуть между сексуальными влечениями в их функции сохранения группы и стремлением индивида к личному удовлетворению. Он, по-видимому, ограничивает эту биполярность влечений областью сексуальности и её конфликтом с влечениями Эго. Мне же кажется, что аналогичный конфликт присутствует и в агрессивных импульсах, где ещё очевиднее, что агрессия, направленная на благо группы, может иметь ограниченную ценность для отдельного человека, который может пожертвовать жизнью ради жизни группы. Фрейд высказывает предположение, что нарциссические неврозы могут пролить свет на эту проблему. В действительности же, как показали другие авторы (например, Бёртон2), сегодня невозможно изучать человеческую природу, не принимая во внимание, что для этого необходимо исследовать формы поведения, которые до сих пор считались проявлением необъяснимой болезни и по этой причине отвергались. Бёртон также указывает на то, что необходимо расширение индивидуального сознания в интересах психического здоровья личности. Проблема, возникающая из-за примитивного страха перед любознательностью — на которой основано всё обучение, — представляет собой вопрос, касающийся самого здоровья индивида. Хюбрис и Немезида выступают как наказание за крайности. Однако учёный неизбежно должен быть экстремистом, не признающим никаких препятствий в поиске истины. Примечательно, что группа нередко возражает, утверждая, что озвучивание определённых истин, вызывающих у неё неприятие, приведёт к её расколу. Неизбежно учёный — то есть тот, кто считает преданность истине первостепенной ценностью в себе самом или в группе — даёт сигнал о том, что он именно такой лидер и желает привлечь последователей. Его работа в групповом контексте и есть такой сигнал. Своим предложением объединиться — так же, как и любой другой человек, предлагающий свою лидерскую позицию, — он вызывает в группе специфический отклик. Анализ этого отклика показывает, что группа ведёт себя так, как будто выбирает себе лидера. Отвержение конкретной личности может казаться продиктованным неспособностью этого человека убедить группу в том, что он способен оправдать те надежды, которые сам же и пробуждает. Я писал в другом месте3, что группа активируется определёнными базовыми допущениями, которые проявляются в преконцепциях лидерства, и эти 2 [«О современном человеке и сознании» (глава, задуманная для проекта «Концепция человека»). Прим. ред.] 3 См. «Опыты в группах и другие работы» 20 преконцепции могут быть выявлены при наблюдении за группой. Можно было бы подумать, что лидерская позиция будет приписана тому, кто действительно обладает качествами, соответствующими этим преконцепциям — короче говоря, что группа выберет самого сильного для выполнения задачи. Однако это происходит не всегда: нередко группа выбирает лидера именно из-за его или её слабостей. Эта особенность становится более понятной в свете теории проективной идентификации. Желание индивида избавиться от определённых элементов своей личности посредством процесса эвакуации приводит — когда принцип реальности уже достаточно укоренён — к поиску такого персонажа, который мог бы послужить доказательством того, что его можно использовать как контейнер для нежелательных аспектов личности. Некоторые люди с трудом отказываются от навязанных им представлений о себе — как положительных, так и отрицательных — которые на более обычных уровнях психики мы склонны воспринимать как навешивание ярлыков. Эта слабость используется, и группа применяет целый арсенал сигналов, чтобы передать этому уязвимому участнику, что он именно тот персонаж, которым группа хочет видеть его в данный момент. Возможно, ему необходимо быть в каком-то смысле нежелательным; но точно так же возможно, что ему придётся нести на себе приписывание гениальности или особой, льстящей формы лидерства. Если бы целью была только лесть, серьёзного вреда бы не возникло. Но поскольку эти манипуляции вторичны по отношению к фантазии проективной идентификации, сама группа оказывается введённой в заблуждение и начинает вести себя так, как будто данный лидер действительно стал вместилищем проецируемых черт. Таким образом, лидер выбирается для определённой цели именно в силу своей полной непригодности быть лидером. Более широкое расширение, к которому стремится этот организм, должно включать и ту область концепции человека, которая проявляется в критических ситуациях групповой динамики. Я попытался кратко обозначить, почему и каким образом это исследование важно и почему это умение следует освоить. Хотя это ограниченная и весьма специализированная область, то же самое можно было бы сказать и о ядерной физике пятьдесят лет назад. 21








